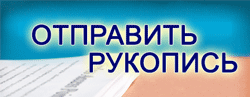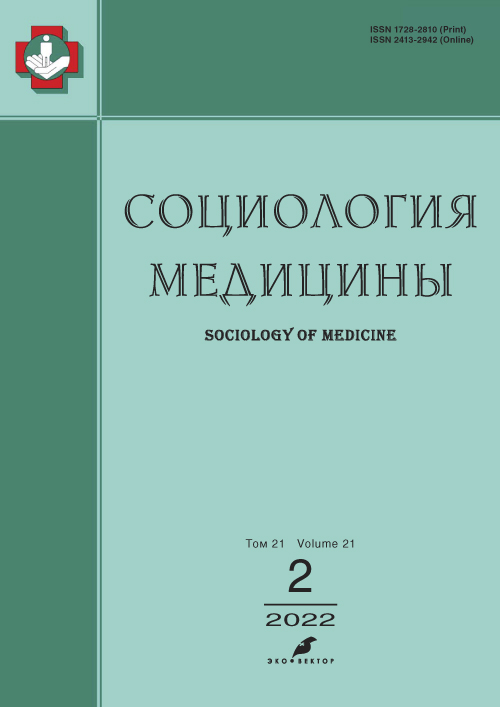Множественные утраты в семье ребёнка с онкологическим заболеванием: ретроспективный социологический анализ
- Авторы: Гусева М.А.1, Жуковская Е.В.1, Лебедь О.Л.2
-
Учреждения:
- НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
- Выпуск: Том 21, № 2 (2022)
- Страницы: 147-158
- Раздел: МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://rjsocmed.com/1728-2810/article/view/114861
- DOI: https://doi.org/10.17816/socm114861
- ID: 114861
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. Успехи медицины на современном этапе определяют высокую выживаемость детей с разными нозологическими формами злокачественных опухолей, что смещает фокус внимания специалистов с разработки лечебных протоколов на изучение ранних и отдалённых эффектов противоопухолевой терапии у ребёнка и его семьи. Одной из актуальных проблем психолого-социальной реабилитации в детской онкологии является анализ психотравмирующих факторов лечения и отдалённых медико-социальных последствий для семьи ребёнка при разработке стратегии эффективного психологического сопровождения этой группы наблюдения на этапе лечения.
Цель. Изучить специфику проживания утрат в семьях, воспитывающих ребёнка с онкопатологией, а также особенности его реадаптации и ресоциализации после преодоления онкологического заболевания (на этапе ремиссии).
Материалы и методы. Представлен ретроспективный анализ данных, полученных в ходе социологического исследования родителей (n=1298), чьи дети окончили лечение по поводу разных злокачественных опухолей. Исследование, выполненное методом анкетного опроса матерей (n=1131) и отцов (n=167), проживающих в 78 регионах России, позволило квалифицировать проблемы членов семьи ребёнка с онкологическим заболеванием в терминах множественной утраты и горевания и обосновать стратегию психологической помощи этой группе населения.
Результаты. В период установления онкологического диагноза ребёнку и его противоопухолевого лечения семья переживает ряд психотравмирующих событий, связанных с кардинальными изменениями в их жизни. Согласно данным проведённого исследования, ухудшения в нормальной жизнедеятельности касаются здоровья (суммарно 1/3 опрошенных; 12,9% матерей отметили ухудшение общего состояния здоровья, 15,2% женщин — серьёзные нарушения репродуктивного здоровья); трудовой деятельности (уход и увольнение с работы коснулось 25,3% матерей и 2% отцов, 11,4% и матерей и 9,6% отцов вынужденно поменяли специальность или место работы); падения уровня дохода семьи (доля семей с низкими доходами в выборке оказалась существенно больше, чем в общероссийской популяции — 41,8 и 31,4% соответственно, а социальные пособия и пенсии составили значимую долю доходов у 57,3% женщин и 26,3% мужчин-респондентов); изменения жизненных перспектив из-за прекращения учёбы, переезда, а также разводов, разрыва отношений с родственниками и друзьями. Каждое из перечисленных событий воспринимается как стресс / утрата и инициирует процесс горевания у членов семьи (прежде всего, родителей), требующий профессиональной помощи клинического психолога. В целом спектр событий, запускающий процесс горевания в семьях исследуемой группы, значительно шире, однако качество и объём психологической помощи в отечественных онкологических стационарах всё еще остаются крайне низкими.
Заключение. Динамика развития психолого-социальной реабилитации в отечественной детской онкологии определяет необходимость разработки стратегии и методов психологического сопровождения членов семьи больного ребёнка на этапе лечения с учётом ранних и отдалённых медико-социальных последствий противоопухолевой терапии.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей и подростков в России по данным 2019 года составляла 486,5 (0–14 лет) и 526,4 (15–17 лет) случаев на 100 тыс. детского населения в год соответственно [1], при этом мальчики заболевают в 1,2 раза чаще девочек [2]. В структуре злокачественных новообразований у детей 1-е место занимают гемобластозы (лейкозы, лимфомы), далее — опухоли головного и спинного мозга, нейробластома, опухоли костей и мягких тканей, почек, глаза, печени [3].
Благодаря развитию и внедрению в медицинскую практику современных интенсивных протоколов химиотерапии, трансплантации костного мозга, органосохраняющих технологий лечения, выживаемость детей во многих странах, включая Россию, серьёзно увеличилась, и сегодня окончательно вылечивается около 80% детей [4]. При некоторых нозологиях этот показатель достигает 90–95%, если специализированное лечение начато на ранних стадиях заболевания. Однако, несмотря на успехи медицины, онкологические заболевания занимают 2-е место в структуре детской смертности [3], поэтому относятся к категории фатальных.
Лечение онкологического заболевания у ребёнка ассоциировано с рядом утрат, которые переживают все члены семьи: здоровья, привычного уклада жизни, социального статуса, социальных связей, материального благополучия, карьеры, жизненных перспектив и пр. Кроме того, процесс горевания по утрате запускается не с того момента, когда утрата уже произошла, а с того, когда вероятность утраты стала более очевидной. Таким образом, семья горюет по возможной утрате ребёнка на протяжении всего времени, пока он лечится, и в последующие годы, пока он остаётся на диспансерном учёте.
Длительная госпитализация ребёнка приводит к вынужденному разделению членов семьи, при котором нарушаются горизонтальные связи (между мужем и женой, между сиблингами), образуются дисфункциональные вертикальные связи и коалиции (часто — мать – больной ребёнок, отец – здоровый ребёнок / дети). Вынужденные разлуки приводят к сокращению внутрисемейных интеракций, ухудшению отношений с близким и дальним окружением, даже если больница находится в том же городе, где проживает семья. Показано, что онкологическое заболевание у ребёнка представляет существенную угрозу не только его жизни, но семейному функционированию, целостности границ и безопасности семьи [5].
Изучено влияние онкологического заболевания у ребёнка на супружеские отношения и степень удовлетворённости браком. В ряде исследований показано, что супружеские отношения ухудшаются, удовлетворённость браком снижается [6, 7]. В то же время выводы других исследователей прямо противоположны: отношения укрепляются, супруги больше доверяют друг другу, семья становится более сплочённой и консолидированной [8, 9].
Очевидно, что в любом случае под влиянием семейного стресса внутрисемейные отношения претерпевают значительные изменения, результатом которых может быть как консолидация и сплочение, так и развод, и семейные конфликты [10]. Хронический эмоциональный стресс у родителей может стать серьёзным фактором ухудшения соматического и психологического здоровья как у самих родителей [11], так и у их детей [12, 13].
Рядом авторов показано ухудшение материального положения в семьях, связанное как с увеличением финансового бремени, так и с изменениями трудового статуса родителей [14, 15].
Жизнеугрожающее заболевание у ребёнка с возможным фатальным исходом сопровождается, таким образом, другими значимыми утратами, которые переживают все члены семьи [16], и запускает процесс горевания с присущими ему стадиями и динамикой: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие [17].
Вместе с тем работа с утратой и гореванием родителей как предмет вмешательства клинического психолога, равно как и психологическая поддержка членов семьи во время проведения специального лечения, чрезвычайно ограничена в условиях отечественных онкологических стационаров.
Обозначенная проблема недостаточно изучена в отечественной клинической психологии, что подтверждает актуальность предпринятого нами исследования.
Цель исследования — изучить специфику проживания утрат в семьях, воспитывающих ребёнка с онкопатологией, а также особенности его реадаптации и ресоциализации после преодоления онкологического заболевания (на этапе ремиссии).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Исследование проведено методом ретроспективного анализа ответов респондентов, полученных в ходе анкетирования родителей, чьи дети окончили лечение по поводу онкологических заболеваний. Полученные данные отражают социально-демографические, социально-экономические особенности семьи, динамику отношений внутри семьи и с ближайшим окружением в период специального лечения онкологического заболевания у ребёнка.
Объекты исследования
Объектами исследования выступили родители детей, окончивших лечение по поводу онкологических заболеваний (n=1298, из них 1131 женщина и 167 мужчин), проживающих в 78 регионах Российской Федерации.
Критерии соответствия
Критерии включения / исключения:
- наличие у респондента несовершеннолетнего ребёнка, имеющего онкологическое заболевание (в стадии ремиссии);
- наличие гражданства Российской Федерации;
- добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Условия проведения
Первичное исследование было проведено в 2009–2013 гг. на базе Центра реабилитации «Русское поле» (Московская обл.) путём обширного опроса-интервью (>100 вопросов) родителей, которые привезли детей на реабилитацию (восстановление) после перенесенного онкологического заболевания. Исследование касалось всех сфер жизни семьи. Впоследствии был осуществлён ретроспективный анализ «историй жизни» семей, который прежде всего фокусировался на изменениях, происходящих в семье в период лечения ребёнка. Формирование выборочной совокупности было выполнено методом направленного (квотного) отбора.
Методы оценки целевых показателей
В рамках исследования основных изменений, траектории и направлений в жизни семьи с ребёнком, которому установлен онкологический диагноз, была разработана авторская анкета для родителей, дети которых завершили лечение и находились в ремиссии ≥1 года. Основные блоки анкеты направлены на:
- оценку изменений в образе жизни, трудовой и образовательной деятельности членов исследуемых семей;
- изучение финансового и жилищного положения семей до, в процессе и после лечения ребёнка, и причины изменений, если они были;
- анализ психологического состояния (климата) семьи и его динамики;
- оценку траектории и динамики отношений в семье;
- изучение репродуктивного поведения;
- оценку изменений и состояния в социально-образовательной жизни ребёнка;
- исследование взаимодействия семей данной группы с различным социальным окружением (родственники, врачи, родители других детей, благотворительные организации и т.п.).
Анализ в подгруппах
В качестве группы сравнения была выбрана когорта женщин (n=1118) в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет из исследования Росстата 2009 года, проведённого во всех федеральных округах, в 30 субъектах Российской Федерации [18].
Этическая экспертиза
Этическая экспертиза не проводилась. Исследование реализовано в рамках научной работы Лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» (Московская обл.) и было частью мониторинга социальной адаптации и ресоциализации ребёнка, преодолевшего онкологическое заболевание, и его семьи.
Статистический анализ
Обработка и анализ результатов выполнены в соответствии со стандартными требованиями к анализу количественных данных и осуществлены посредством программного пакета Statistics v. 17.0 (SPSS, США), в котором был сформирован массив данных (n=1298) и произведены основные расчёты (частотное распределение по опросу, сопряжённости сопоставимых вопросов с социально-статусными характеристиками, статистические характеристики анализируемых переменных, корреляционные распределения, а также группировка вариантов ответов по категориям и их описание).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники исследования
Всего в опросе приняли участие 1298 человек, основную долю которых — 1131 (87,1%) — составили матери, а ещё 167 человек (12,9%) — отцы детей.
Основные результаты исследования
Установление ребёнку онкологического диагноза запускает ряд психотравмирующих событий, каждое из которых воспринимается семьей как потеря и, в первую очередь, это возможная смерть ребёнка, а при благоприятном прогнозе — неминуемая утрата прежнего здоровья и связанных с ним надежд на то будущее, которое желала для него семья.
Отметим, что для 7,3% семей из нашего исследования ситуация, угрожающая жизни и здоровью ребёнка, не являлась их первым опытом: 3,0% на момент исследования уже воспитывали ребенка-инвалида, ещё 4,3% ранее пережили смерть ребёнка. Такая ретравматизация не может не отразиться на психическом и соматическом здоровье родителей, а также является фактором, серьёзно осложняющим адаптацию семьи к новой стрессогенной ситуации. Только 8,6% респондентов отметили у себя хорошее соматическое здоровье, при этом 12,9% жаловались на резкое ухудшение состояния здоровья. 15,2% женщин в активном репродуктивном возрасте отметили серьёзные нарушения репродуктивного здоровья, препятствующие зачатию и рождению желанного здорового малыша. Нарушение репродуктивного здоровья у матерей, особенно имеющих только ребёнка-инвалида с онкологическим заболеванием, подрывает надежду на воспитание здорового ребёнка, получение в полной мере радости материнства, продолжение рода в будущих поколениях.
После постановки онкологического диагноза большинство семей, проживающих в деревнях, сёлах или небольших городах, оказываются перед необходимостью переезда в районный центр или большой город, где, как правило, расположена онкологическая детская больница, временно или навсегда. Этими городами оказываются крупные центры — Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва и некоторые другие, проживание в которых, а также съём или покупка квартиры ложатся тяжёлым бременем на семейный бюджет. Именно поэтому зачастую заболевший ребёнок и сопровождающий его родитель вынуждены жить в общежитиях или пансионатах, существующих при некоторых крупных больницах, условия проживания в которых оставляют желать лучшего. Примерно 1/4 (22,7%) опрошенных отметили ухудшение жилищных условий в результате такого переезда, а 13,2% семей навсегда покинули родной город, чтобы иметь возможность находиться вблизи клиники и лечащих врачей-онкологов, которым они доверяют. Некоторые родители указывали, что в течение ряда лет приходилось раз в неделю совершать многокилометровые поездки, например, из Тамбова, Тулы, Иваново и других городов в Москву для того, чтобы сдать анализ крови, поскольку у них не было доверия к местным лабораториям. Это ещё раз свидетельствует о хроническом эмоциональном стрессе родителей и связанных с ним страхах, как рациональных, например, страх рецидива, так и иррациональных, ассоциированными с мифами и стигмами диагноза «рак».
Переезд в другой город на постоянное или даже временное проживание ассоциирован с утратой не только родного дома, «где даже стены греют», но и социальной поддержки от ближнего и дальнего окружения, привычных социальных взаимодействий. Для родителя, сопровождающего ребёнка (в основном, это матери), это неминуемо означает потерю работы, а зачастую и карьеры. Материальное благополучие семьи также страдает из-за резко возросших расходов на организацию переезда и проживания в крупном городе, часто в Москве или Санкт-Петербурге.
Ретроспективный анализ ответов респондентов продемонстрировал серьёзные изменения в трудовом статусе родителей во время лечения ребёнка: пришлось уволиться 16,5% матерей и 1,8% отцов; ушли с работы и на момент исследования всё ещё не работали — 6,9 и 0,8%; уходили, но вернулись к работе в прежней должности — 13,1 и 1,6%; до сих пор не могут решиться выйти на работу — 5,9 и 0,2%; решили посвятить себя семье и детям — 6,8 и 0,4%; вынужденно поменяли специальность, место работы — 11,4 и 9,6% соответственно. Как видно из представленных данных, именно матери зачастую вынуждены увольняться или оказываются вытесненными работодателями.
Почти 1/3 (29,6%) женщин не работали во время лечения, из них после окончания лечения 13,7% так и не вернулись к трудовой деятельности, 13,1% вернулись к работе в прежней должности, 2,3% — с понижением в должности. Общее число неработающих женщин на момент проведения исследования составило 391 (34,6%), из них находящихся на пенсии — всего 32 человека (2,8%). Важно отметить, что доля экономически неактивных женщин в нашей когорте респондентов оказалась в 2 раза больше, чем в общероссийской популяции, где этот показатель составил 16,8% для возрастной группы от 20 до 45 лет (p <0,05). Среди респондентов-мужчин на момент исследования 21 (12,6%) оказались неработающими.
Анализ ответов на открытые вопросы анкеты показал, что работодатели зачастую вынуждали уволиться матерей детей-инвалидов, понижая их в должности, не предоставляя законные социальные гарантии, к примеру, оплачиваемых дополнительных выходных (4 дня в месяц). Отцы чаще матерей указывали, что им приходилось хвататься за любую работу, чтобы обеспечить семью (7,2 и 3,9% соответственно).
Потеря работы в современном мире как для мужчин, так и для женщин зачастую ассоциирована с понижением социального статуса, утратой карьерного роста, прежних жизненных целей, смысла и перспектив, особенно для тех, кто имеет высшее образование и занимает руководящие должности. В нашей выборке высшее образование имели 42,5%, неполное высшее — 6,5% респондентов; женщины-руководители составили 14,7%, мужчины — 34,8%. Наличие высшего образования предполагает высокую потребность в профессиональной самореализации, стремлении к карьерному росту, высокому социальному статусу, что часто оказывается нереализованным в силу необходимости длительного ухода за ребёнком-инвалидом не только во время госпитального этапа лечения, но и на этапах диспансерного наблюдения и реабилитации. Даже при самом благоприятном диагнозе и хорошем прогнозе ухаживающий родитель вынужден как минимум полгода-год провести на больничном и оказывается лишён возможности планировать своё будущее.
Материальное благополучие семьи напрямую связано с уровнем доходов. В нашем исследовании доля семей с низкими доходами оказалась существенно больше, чем в общероссийской популяции — 41,8 и 31,4% (p <0,01), с высоким — существенно меньше — 7,0 и 14,5% (p <0,01), и только по среднему уровню доходов когорты были сопоставимы — 51,2 и 54,1% соответственно (p >0,05). Кроме того, бюджет семьи ребёнка с онкологическим заболеванием отягощён необходимостью больших трат на лечение и реабилитацию: от покупки некоторых медикаментов и специализированного питания до затрат на переезд к месту лечения. Именно поэтому нередко даже полные семьи оказываются за чертой бедности, указывая пенсии и социальные пособия как составляющие значимую долю в структуре своих семейных доходов (женщины — 57,3%, мужчины — 26,3%).
Вместе с тем обращает на себя внимание весьма скромный вклад родственников в структуру семейных бюджетов — 4,6 и 1,2% у женщин и мужчин соответственно, что подтверждает хорошо известный факт о малой «включённости» расширенной семьи в проблемы, связанные с онкологическим заболеванием ребёнка, и это не в последнюю очередь связано с вынужденной изоляцией семьи в результате переезда в другой город или самоизоляцией в связи с мифами и стигмами, маркирующими любой онкологический диагноз. Отношения с родственниками и друзьями резко ухудшились у 22,1%, а 6,7% семей чувствовали себя в полной изоляции. Ещё 14,5% семей, особенно проживающих в селах и деревнях, указывали на открытую враждебность некоторых родственников, друзей и соседей: «Свекровь запрещала сыну общаться с нами»; «Родственники боялись, что моя дочь заразна, не подпускали к ней своих детей»; «Соседи не разрешали своим детям общаться с нами»; «Соседка предложила заниматься другим ребенком, всё равно этот помрёт»; «Соседка говорила, чтобы больной ребёнок не ел из общей посуды». В мифах и стигмах отражаются идеи «материнского греха» и наказания, окрашенные примитивной иррациональной тревогой и стыдом, что зачастую вынуждает семьи самоизолироваться, скрывать диагноз и вести замкнутый образ жизни. Утрата привычных связей и взаимодействий лишает семью социальной поддержки, необходимой для снижения семейного стресса, тем самым благоприятствуя развитию посттравматических стрессовых расстройств [19] и препятствуя более успешному выходу из кризиса и реинтеграции в общество [20, 21].
Далеко не все семьи способны выдержать давление тяжёлых жизненных обстоятельств и такого количества вызовов в короткий временной период. Многие не могут самостоятельно справиться с проблемами, ещё больше замыкаются на себе, лишаясь последних внешних ресурсов: поддержки ближнего и дальнего окружения. По оценке самих респондентов, в каждой шестой (18,4%) семье отношения между супругами серьёзно ухудшились, а в 8,1% семей произошёл развод. Анализ динамики семейных отношений относительно периода диагностики и начала противоопухолевого лечения проведён в первых браках женщин-респондентов (n=1131) и представлен на рис. 1.
Рис. 1. Завершение первых браков в семьях в результате развода или смерти одного из родителей по отношению к установлению диагноза и началу противоопухолевого лечения.
Примечание. Цена деления на оси Х равна 1 году, отрицательные значения соответствуют периоду до постановки диагноза ребёнку; 0 — год постановки диагноза; положительные значения по оси Х — период после постановки диагноза. Медиана составила -4 года, среднее число лет между прекращением брака и началом заболевания —-4,0 года [мода — 0 лет (n=42)]. Стандартное отклонение для показателя «число завершённых браков» равно 8,54, коэффициент вариации — 5,946.
Общее число завершённых браков в исследуемых семьях в разные годы составило 364, при этом около 1/3 (n=113) завершились после постановки ребёнку онкологического диагноза, большинство приходилось на первые 5 лет — период, наиболее стрессогенный для семьи, что связано с 5-летним критерием прогноза безрецидивной выживаемости пациента. Это означает, что если у ребёнка в течение 5 лет от начала заболевания не случился рецидив, то он считается окончательно выздоровевшим. Самое большое число завершённых браков (n=42) зафиксировано в год установления онкологического диагноза, когда происходит кризисная адаптация семьи к чрезвычайно изменившимся условиям их жизни, ассоциированным с чередой значимых утрат. Многие матери не связывают развод с заболеванием, а склонны объяснять его другими причинами, как, например, «недостаток заботы мужа» — 29,4%, «супружеская неверность» — 29,1%, «пьянство, наркотики» — 28,5%. На заболевание ребёнка как причину развода указали лишь 10,7% опрошенных женщин.
Важно отметить, что одной из причин завершения брака в течение 5 лет после постановки онкологического диагноза, указанных респондентами, являлась смерть супруга — 8,9% (n=99). Доля завершившихся браков (n=68) в трёхлетний период до установления онкологического диагноза ребёнку тоже не менее высока, из них 3,9% также завершились смертью супруга, что является тяжёлой травмой для всех членов семьи, особенно для детей, и даёт нам представление об утратах, существующих в ряде семей в преморбиде онкологического заболевания у ребёнка.
Во время лечения большинство детей (почти 3/4, 72,8%) переживали длительные разлуки с отцом (в больнице с ребенком находилась мать), по 13,6% — с матерью, и обоими родителями. Выделено несколько видов специфических для детской онкологии длительных (год и более) семейных деприваций:
- 1 — вынужденное супружеское разделение и вынужденная депривация заболевшего ребёнка (от отца или матери);
- 2 — вынужденное супружеское разделение и вынужденная депривация заболевшего ребёнка от отца или матери и от других членов семьи (сиблинги, бабушка, дедушка, другие близкие родственники);
- 3 — депривация заболевшего ребёнка от обоих родителей (находится с бабушкой или другим родственником в больнице);
- 4 — депривация здорового сиблинга от одного (чаще матери) или обоих родителей и от больного брата или сестры (проживание у бабушки или других родственников);
- 5 — добровольное разделение супругов или распад семьи, связанный с разводом (причина — онкологическое заболевание у ребёнка) или смертью супруга.
Схема неполного цикла семьи, имеющей ребёнка с онкологическим заболеванием, представлена на рис. 2.
Рис. 2. Неполный цикл семьи ребёнка с онкологическим заболеванием.
Примечание. РП — рождение первенца, РПР — рождение последнего ребёнка, ООР — отделение первого ребёнка от родителей, РС — распад семьи (развод, смерть одного из супругов), ВДЦ — вынужденная депривация одного из родителей от ребёнка, ВДЦ2 — вынужденная депривация обоих родителей от ребёнка, ВРС — вынужденное разделение супругов, ВДС — вынужденная депривация сиблингов друг от друга, ЗБ — заключение брака.
Из схемы становится очевидной масштабность семейных событий, связанных с неполнотой семейного цикла этих семей, создающих множество линий прерывания нормальной цикличности, каждая из которых может быть описана как утрата и негативно сказаться на устойчивости семьи к стрессу, что в конечном итоге может привести к распаду семьи.
Таким образом, исследование показало, что противоопухолевое лечение ребёнка связано и с чередой таких тяжёлых семейных утрат, как смерть родителя или развод в семье, а также длительных разлук, которые воспринимаются детьми, особенно маленькими, как потеря родителя навсегда.
Важно отметить, что в семьях, где ребёнок получал лечение по поводу солидной опухоли, включая опухоли головного мозга, отношения между супругами ухудшались статистически значимо чаще по сравнению с семьями, в которых ребёнок страдал лейкозом или лимфомой: 22,5 (n=51) и 18,7% (n=134) соответственно (p <0,05). Это связано с тем, что лечение солидных опухолей в большинстве случаев сопряжено с калечащими операциями, трудоёмким уходом, тяжелой инвалидизацией ребёнка, существенными осложнениями терапии, длительным лечением и реабилитацией. Такие дети нуждаются в большем внимании и семейных ресурсах, многие имеют длительные двигательные и когнитивные проблемы, не могут самостоятельно передвигаться, что вызывает ряд проблем, связанных с почти повсеместным отсутствием в России безбарьерной среды.
Тяжёлые физические утраты — конечностей, когнитивных способностей, привычной внешности и жизненно-важных функций (ожирение, алопеция, парезы и прочее) — переживаются семьёй очень тяжело и делают её чрезвычайно уязвимой ко мнению окружающих, что ведёт к ещё более глубокой самоизоляции. Тем не менее, в части семей подобные серьёзные испытания приводят к достижению нового уровня взаимоотношений, сплочению, взаимоподдержке и пониманию. Так, 25,7% семей в описываемой нами когорте консолидировались, преодолели кризис и адаптировались в чрезвычайной ситуации [22], однако большинству из них требуется психологическая и социальная поддержка [23–25]. Одновременно с этим приходится признавать, что уровень психолого-социальной помощи в нашей стране остаётся явно недостаточным и не соответствует потребностям семей в помощи такого рода [24–28].
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
Социологический анализ специфики утрат в семьях, имеющих ребёнка с онкологическим заболеванием, показал наличие нескольких групп проблем, с которыми сталкиваются семьи описываемой категории, а именно: социально-экономические, социально-психологические, медицинские, педагогические. К социально-экономическим проблемам можно отнести изменение социального статуса и финансового состояния преимущественно в сторону ухудшения, снижение и утрату карьерного роста и прекращение трудовой деятельности (добровольно или вынужденно), ухудшение жилищных условий параллельно с утратой привычного социального окружения, изменение образовательной траектории. К социально-психологическим проблемам относят ухудшение психологического и социального самочувствия, смену окружения, усиление тревоги и депрессивных состояний, различные виды депривации, возникновение или обострение внутрисемейных и межличностных конфликтов, приводящих к разводу, расставанию или отчуждению, социальную изоляцию и стигматизацию и др. Среди медицинских проблем выделяют ухудшение состояния соматического, психического и репродуктивного здоровья, среди педагогических — большие перерывы в обучении и связанные с этим сложности в восполнении знаний и соблюдении формальных образовательных процедур, а также реадаптации в группах сверстников.
Интерпретация результатов исследования
Проведённое нами исследование показало, что при сформированной у самих респондентов потребности обращения к психологам, их наличие и эффективность чрезвычайно малы: более 1/2 (52,0%) респондентов оценили уровень психологической поддержки в клиниках, где проходили лечение их дети, как чрезвычайно низкий, при этом поддержку, по оценке родителей, в основном оказывали лечащие врачи отделения, а не квалифицированные психологи, которых в большинстве клиник попросту нет.
Ещё одна группа детей, требующая внимания в контексте обсуждаемых нами семейных утрат, это здоровые сиблинги, особенно в неполных и многодетных семьях. Эти дети в течение длительного времени находятся на периферии внимания семьи, центром которой является заболевший ребёнок, независимо от того, младший он или старший. В неполных семьях сиблинг часто оказывается на попечении бабушки, дедушки, тёти, дяди, друзей семьи или няни. В многодетных семьях с тремя и более детьми старший сиблинг зачастую вынужденно становится функциональным родителем своим младшим братьям и сестрам, что лишает его детства и может создавать условия для развития у него эмоциональных, поведенческих и соматических расстройств, углубления дистанцирования и конфликтов между ним и семьёй.
Приведём несколько ярких высказываний матерей, подтвердивших ухудшение отношений со здоровыми детьми в семье (n=152, 13,4%): «Больше года дочь воспитывалась у бабушки, были большие трудности, она не хотела возвращаться в нашу семью»; «Второй ребёнок был брошен, жил у сестры, т.к. мы целый год были в Москве»; «Дочь стала как бы отдалившейся, замкнутой, мало разговаривала…»; «Старший сын решил, что его не любят, и убежал из дому в 12 лет»; «У меня был малыш, и он просто думал, что няня — это его мама» и пр. Более позднее исследование здоровых сиблингов в 2013 году с участием авторов выявило серьёзные психологические проблемы у этой группы детей, в первую очередь — переживание ими множественной психической травмы, вызванной рядом утрат [29].
Добавим также, что ретроспектива жизни по ответам участников показала, что во время лечения ребёнка около 10% (n=110) матерей беременели (имели беременность), но при этом более 1/2 (n=58, 52,7%) всех беременностей закончились абортом, выкидышем или мертворождением. В анкетах женщины писали, что зачастую совет сделать аборт они получали от лечащих врачей-онкологов, выражавших известное всем общественное мнение: «Вначале вылечи одного, потом рожай другого». Беременным матерям ребёнка с онкологическим заболеванием, проходящего лечение, нередко приходилось слышать от врачей, родственников, друзей негативные высказывания по поводу их беременности, что, с одной стороны, подтверждает высокую стигматизацию и мифологизацию онкологических заболеваний в общественном сознании, с другой — подкрепляет и так имеющееся убеждение матери в собственной виновности и усугубляет её травматизацию ещё одной утратой — потерей ещё не рожденного ребёнка, который мог бы родиться здоровым. Подтверждением этого тезиса, на наш взгляд, служат сведения об использовании женщинами (n=66, 5,8%) стерилизации как метода контрацепции на фоне психоэмоционального стресса и, возможно, посттравматического стрессового расстройства. Этот результат согласуется с данными, полученными датскими учёными: 5,3% женщин из исследуемой ими когорты также использовали стерилизацию как метод контрацепции [30].
Ограничения исследования
Результаты нашей работы релевантны только для группы семей с детьми c онкологическими заболеванием в стадии ремиссии, для других групп (например, семей с детьми в стадии лечения) требуется дополнительное исследование. Однако разработанная методология может быть адаптирована для проведения опроса на группах детей, перенёсших тяжелые неонкологические заболевания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На большой когорте респондентов проведен социологический анализ специфики семейных утрат, связанных с онкологическим заболеванием ребёнка, оценены драматические изменения в трудовой деятельности, жилищных условиях, социальных взаимодействиях, семейных взаимоотношениях, психическом, соматическом и репродуктивном здоровье респондентов. Анализ показал, что противоопухолевое лечение сопровождается серьёзными потерями для всех членов семьи, включая вероятность утраты или инвалидизации ребёнка и полную неопределённость будущего, что может быть квалифицировано как множественная травма утраты.
Установлено, что весь груз проблем зачастую ложится на плечи самой семьи, часто оказывающейся неспособной адаптироваться к кардинальным изменениям и потерям без социальной поддержки и профессиональной помощи. При наличии в клиниках эффективно работающей службы психологического и социального сопровождения, оказывающей поддержку семье с момента установления ребёнку онкологического диагноза, влияние этих факторов могло бы быть минимизировано.
Психологам и психотерапевтам, осуществляющим психологическое сопровождение больных детей и членов их семей, необходимо осуществлять терапевтическое вмешательство с учётом стадий и динамики горевания.
Обозначенные проблемы позволяют сделать несколько практических выводов:
- необходима специальная подготовка клинических психологов для работы с утратой и гореванием у ребёнка и взрослого;
- объектом профессиональной помощи в клинике должен быть не только заболевший ребёнок, но и ухаживающие за ним взрослые, а также все члены семьи ребёнка;
- необходимы разработка и использование специальных государственных программ психолого-социальной помощи здоровым сиблингам в детской онкологии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конфликт интересов. Авторы подтверждают отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источник финансирования. Не указан.
Вклад авторов. М.А. Гусева — сбор данных, анализ научного материала, анализ полученных данных, обзор публикаций по теме статьи, подготовка списка литературы, написание текста рукописи, составление аннотации; Е.В. Жуковская — научное редактирование текста статьи; О.Л. Лебедь — участие в сборе, обработке, анализе и описании данных медико-социологического исследования. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
ADDITIONAL INFO
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Funding source. Not specified.
Author’s contribution. M.A. Guseva — data collection, analysis of scientific material, the analysis of the obtained data, review of publications on the topic, preparing a bibliography, writing of the manuscript, abstract; E.V. Zhukovskaya — scientific edition of the article; O.L. Lebed — participation in the collection, processing, analysis and writing of the of medico-sociology research data. Thereby, all authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Об авторах
Марина Александровна Гусева
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва
Email: gusmarina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3092-8892
SPIN-код: 8370-4218
к.соц.н., клинический психолог – руководитель группы
Россия, МоскваЕлена Вячеславовна Жуковская
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва
Email: elena_zhukovskay@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6899-7105
SPIN-код: 8225-6360
д.м.н., заведующая отделом
Россия, МоскваОльга Леонидовна Лебедь
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: lebed_olga@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0218-462X
SPIN-код: 9128-6176
к.соц.н., доцент кафедры
Россия, МоскваСписок литературы
- Статистика по детской заболеваемости в России, отчет 2019 года [интернет]. Медицинская энциклопедия [дата обращения: 29.12.2022]. Доступ по ссылке: https://resursor.ru/content/statistika-po-detskoj-zabolevaemosti-v-rossii-otchet-2019-goda.
- Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. Москва: МНИОИ им. П.А. Герцена —Желудкова О.Г., Поляков В.Г., Рыков М.Ю., и др. Клинические проявления онкологических заболеваний у детей: практические рекомендации. Санкт-Петербург: Типография Михаила Фурсова, 2017.
- Steliarova-Foucher E., Colombet M., Ries L.A.G., et al. International incidence of childhood cancer, 2001-10: A population based registry study // Lancet Oncol. 2017. Vol. 18, N 6. P. 719–731. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30186-9
- Siemińska M.J., Greszta E. The family of a child with cancer — changes within the family system // Polish Psychological Bulletin. 2008. Vol. 39, N 4. P. 192–201. doi: 10.2478/v10059-008-0023-6
- Lavee Y., Mey-Dan M. Patterns of change in marital relationships among parents of children with cancer // HealthSocWork. 2003. Vol. 28, N 4. P. 255–263.doi: 10.1093/hsw/28.4.255
- Pai A.L., Greenley R.N., Lewandowski A., et al. A meta-analytic review of the influence of pediatric cancer on parent and family functioning // J Fam Psychol. 2007. Vol. 21, N 3. P. 407–415. doi: 10.1037/0893-3200.21.3.407
- Kylmä J., Juvakka T. Hope in parents of adolescents with cancer — Factors endangering and engendering parental hope // Eur JOncolNurs. 2007. Vol. 11, N 3. P. 262–271. doi: 10.1016/j.ejon.2006.06.007
- Long K.A., Marsland A.L. Family Adjustment to Childhood Cancer: A Systematic Review //Clin Child FamPsychol Rev. 2011. Vol. 14, N 1. P. 57–88. doi: 10.1007/s10567-010-0082-z
- Cousino M.K., Hazen R.A. Parenting stress among caregivers of children with chronic illness: A systematic review // J Pediatr Psychol. 2013. Vol. 38, N 8. P. 809–828. doi: 10.1093/jpepsy/jst049
- Carlsson T., Kukkola L., Ljungman L., et al. Psychological distress in parents of children treated for cancer: An explorative study // PLoS One. 2019. Vol. 14, N 6. P. e0218860 doi: 10.1371/journal.pone.0218860
- Robinson K.E., Gerhardt C.A., Vannatta K., Noll R.B. Parent and family factors associated with child adjustment to pediatric cancer // J Pediatr Psychol. 2007. Vol. 32, N 4. P. 400–410. doi: 10.1093/jpepsy/jsl038
- Куртанова Ю.Е., Бурдукова Ю.А., Щербакова А.М., и др. Социальная адаптация детей с онкологическими заболеваниями после продолжительного лечения // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 3. C. 127–138. doi: 10.17759/jmfp.202009031
- Pelletier W., Bona K. Assessment of Financial Burden as a Standard of Care in Pediatric Oncology // Pediatr Blood Cancer. 2015. Vol. 62, Suppl. 5. P. S619–S631. doi: 10.1002/pbc.25714
- Beauchemin M., Santacroce S.J., Bona K., et al. Rationale and design of Children’s Oncology Group (COG) study ACCL20N1CD: financial distress during treatment of acute lymphoblastic leukemia in the United States // BMC Health Serv Res. 2022. Vol. 22, N 1. P. 832. doi: 10.1186/s12913-022-08201-0
- Bruce A., Sheilds L., Molzahn A., et al. Stories of Liminality: Living With Life-Threatening Illness // J Holist Nurs. 2014. Vol. 32, N 1. P. 35–43. doi: 10.1177/0898010113498823
- Kübler-Ross E., Kessler D. On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. New York: Scribner, 2005.
- Семья и рождаемость. Основные результаты выборочного обследования. 2009 год. Москва: ИИЦ «Статистика России», 2010.
- Wijnberg-Williams B.J., Kamps W.A., Klip E.C., Hoekstra-Weebers J.E. Psychological distress and the impact of social support on fathers and mothers of pediatric cancer patients: Long-term prospective results // J Pediatr Psychol. 2006. Vol. 31, N 8. P. 785–792.doi: 10.1093/jpepsy/jsj087
- Kamibeppu K., Murayama Sh., Ozono S., et al. Predictors of Posttraumatic Stress Symptoms Among Adolescent and Young Adult Survivors of Childhood Cancer // J Fam Nurs. 2015. Vol. 21, N 4. P. 529–550. doi: 10.1177/1074840715606247
- Гевандова М.Г. Детская онкология: стигма диагноза глазами родителей // Социология медицины. 2021. Т. 20. №2. С. 27–35. doi: 10.17816/socm100964
- Цейтлин Г.Я., Гусева М.А., Антонов А.И., Румянцев А.Г. Медико-социальные проблемы семей, имеющих ребенка с онкологическим заболеванием, и пути их решения в практике детской онкологии // Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2017. Т. 96, № 2. C. 173–181.
- Resler S.R., Lacayo N.J., Jo B. A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury // Brain Inj. 2011. Vol. 25, N 1. P. 100–112.doi: 10.3109/02699052.2010.536194
- Володин Н.Н., Касаткин В.Н., Цейтлин Г.Я., и др. Стратегия медико-психолого-социальной реабилитации детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями // Онкогематология. 2015. № 1. C. 7–15. doi: 10.17650/1818-8346-2015-1-7-15
- Reshetnikov A., Gevandova M., Prisyazhnaya N., Vyatkina N. The Role of Parents in Their Child’s Cancer Diagnosis, Treatment, Rehabilitation, and Socialization // Indian Journal of Pediatrics. 2022. doi: 10.1007/s12098-022-04387-7
- Румянцев А.Г., Володин Н.Н., Касаткин В.Н., Митраков Н.Н. Концепция медицинской, нейрокогнитивной и психолого-социальной реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями // Вестник восстановительной медицины. 2015. № 1. C. 18–23.
- Лебедь О.Л., Гусева М.А., Цейтлин Г.Я. В семье — тяжело больной ребёнок. Изучение такой семьи и работа с нею // Социальная педагогика в России. 2014. №1. С. 20–26.
- Гевандова М.Г., Амлаев К.Р., Гринин В.М. Общественные организации и интернет-сообщество как агенты помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями // Социология медицины. 2018. Т. 17, № 1. C. 49–53. doi: 10.18821/1728-2810-2018-17-1-49-53
- Гусева М.А., Барчина Е.Т., Цейтлин Г.Я. Проблема сиблингов в детской онкологии // Вопросы гематологии / онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2013. Т. 12, № 2. C. 38–47.
- Van Dongen-Melman J.E., De Groot A., Hählen K., Verhulst F.C. Verhulst. Impact of childhood leukemia on family planning // Pediatr Hematol Oncol. 1995. Vol. 12, N 2. P. 117–127. doi: 10.3109/08880019509029544
Дополнительные файлы